Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей
- 01
Большинство обследований можно пройти за 1–2 дня: всё оборудование и специалисты — в одном месте
- 02
Мы не «продаём операции», а выбираем путь, который лучше для ребёнка именно сейчас
- 03
Опытная команда детских урологов, хирургов, нефрологов, педиатров и анестезиологов
- 04
Совместное пребывание, подробные разъяснения, постоянная связь с лечащим врачом
Когда родители впервые слышат, что «у ребёнка пузырно-мочеточниковый рефлюкс, или ПМР», чаще всего за этим стоит вполне обычная ситуация: на плановом УЗИ заметили расширение лоханки или мочеточника, либо ребёнок переносит повторные инфекции мочевых путей.
Важно знать две вещи. Во-первых, ПМР — не «вариант нормы», а состояние, которое со временем может повреждать почечную ткань. Во-вторых, при правильной тактике у большинства детей проблему можно решить — от наблюдения до малой эндоскопии и реконструктивной операции, если это действительно необходимо.
Что это такое и почему возникает
В норме мочеточник, входя в мочевой пузырь, проходит небольшой путь внутри его стенки — «подслизистый туннель». Когда пузырь наполняется, давление изнутри прижимает стенки этого интрамурального сегмента и перекрывает обратный ток мочи. Это и есть естественный клапанный механизм. Если туннель слишком короткий или устье мочеточника расположено нетипично (например, ближе к шейке пузыря), клапан не работает, и моча уходит обратно к почке. Именно так формируется ПМР.
Важно и то, что рефлюкс может быть «вторичным» — на фоне клапана задней уретры, нейрогенной дисфункции мочевого пузыря, после операций, а также в составе сложных пороков, например, при аноректальных мальформациях. Здесь тактика всегда индивидуальна и зависит от причины возникновения рефлюкса.
Когда заподозрить пузырно-мочеточниковый рефлюкс
Даже при хорошем самочувствии ребёнка поводом увеличить объём обследований служат находки УЗИ: стойкое расширение лоханки (обычно ориентируемся на значения более 10 мм), расширение мочеточника (свыше ~5 мм), утолщение или «слоистость» стенки лоханки, усиление расширения после мочеиспускания. Клинически настораживают повторные инфекции мочевых путей (ИМП), а иногда — очень тяжёлый самый первый эпизод, вплоть до картины абсцесса почки.
Важный нюанс, о котором родители часто не знают: воспаление мочевых путей у детей не всегда «восходящее», оно может развиться и гематогенно — поэтому при лихорадке без симптомов ОРВИ затягивать с диагностикой нельзя.
Как мы обследуем ребёнка
В Ильинской больнице мы идём по чёткому, дружелюбному к ребёнку алгоритму. Начинаем с УЗИ и анализов мочи, затем, по показаниям, выполняем микционную цистографию — золотой стандарт подтверждения ПМР, потому что именно во время мочеиспускания видно, «идёт» ли моча обратно вверх. При необходимости подключаем дополнительные методы (МСКТ с контрастированием, статическую/динамическую сцинтиграфию, уродинамику) и эндоскопию — цистоскопия нередко становится и диагностическим методом, и первым лечебным шагом. Большинство обследований можно пройти за 1–2 дня: всё оборудование и специалисты — в одном месте.
Всегда ли требуется операция
Нет. У малышей с низкими степенями (ПМР I–II ст.) рефлюкс часто регрессирует сам по мере «созревания» клапанного механизма. Международные наблюдения показывают: в течение 4–5 лет самопроизвольное исчезновение достигает ~80% при I–II степенях и 30–50% при III–V, особенно если нет проблем с работой мочевого пузыря. Поэтому в ряде случаев мы выбираем выжидательную тактику с контролем анализов, УЗИ и профилактикой инфекций.
Одновременно мы внимательно оцениваем факторы риска — фебрильные ИМП, высокую степень рефлюкса, двусторонний процесс, дисфункцию мочевого пузыря. При их наличии консервативную тактику пересматриваем активнее. Решение обсуждаем с семьёй подробно: сильные и слабые стороны каждого варианта прозрачны и понятны родителям.
Малоинвазивная коррекция: как это делаем мы
Если рефлюкс сохраняется, даёт инфекции или связан с анатомическим дефектом, оптимальным первым шагом становится эндоскопическая коррекция. Суть метода проста и красива: через тонкий эндоскоп мы вводим объём-образующее вещество под слизистую позади интрамурального отдела мочеточника, формируя «подушку», которая удлиняет подслизистый туннель и возвращает клапанную функцию. Техника может выполняться двумя способами — STING (укол под устье снаружи, на 1–1,5 мм от края) или HIT (укол через заднюю стенку мочеточника из его просвета). В реальной жизни мы часто комбинируем подходы, чтобы смоделировать идеальное устье именно для вашего ребёнка.
Используемые материалы
У малышей, когда есть потенциал дозревания, мы используем биодеградируемые составы (например, коллаген); при выраженных анатомических дефектах и у старших детей — более стабильные агенты: сополимер декстраномера и гиалуроновой кислоты (CRM, Vurdex) или макрочастицы кополимера полиакрилового поливинилового спирта (PPC, Vantris). У разных веществ — разная вязкость и требуемый объём, эти особенности мы учитываем при выборе иглы и инструмента.
Результаты
По крупной мета-аналитической сводке (5 527 детей, 8 101 мочеточник) после одной инъекции исчезновение рефлюкса достигает ~78,5% при I–II степенях, 72% — при III, 63% — при IV и 51% — при V; итоговый успех с одной или несколькими инъекциями — около 85%.
В некоторых группах (дупликации, нейрогенный пузырь) эффективность ниже, что мы заранее обсуждаем с родителями. Рандомизированные исследования показывают, что у малышей с III–IV степенями эндоскопия даёт более высокую частоту разрешения рефлюкса, чем длительная профилактика антибиотиками, но требует внимания к возможному рецидиву (около 20% за 2 года).
Безопасность и техника
Ключ к безопасной операции — анатомическая точность. Укол выполняется именно в подслизистый слой пузыря позади интрамурального сегмента. Повреждать устье нельзя: оно заживает рубцом, что грозит сужением. Не допускаем инъекции в саму стенку мочеточника — перерастяжение и ишемия могут вызвать обструкцию. Большинство объём-образующих веществ гидрофильны и в первые дни «подтягивают» воду, увеличиваясь — это мы учитываем заранее. При больших объёмах иногда сознательно устанавливаем мочеточниковый катетер и моделируем устье «на катетере», чтобы исключить блок почки на фоне послеоперационного отёка. Это те самые нюансы, которые определяет опытная команда в операционной.
Если возникает «блок почки»: наш протокол
Сразу после эндоскопии мы на сутки оставляем уретральный катетер — снижаем внутрипузырное давление и даём моче свободно уходить из мочеточников. На следующий день — УЗИ. Если размеры собирательной системы не превышают исходных, катетер удаляем и повторяем УЗИ ещё через сутки — уже на фоне обычного давления в пузыре.
При боли, лихорадке или расширении ЧЛС/мочеточника расцениваем ситуацию как блок, катетеризируем, проводим противоотёчную терапию (спазмолитики, НПВП, стероиды); при отсутствии эффекта выполняем экстренную цистоскопию с интубацией/стентированием.
После разрешения — стандартный график наблюдения: УЗИ через месяц, контроль рефлюкса рентгенологически — примерно через полгода. Это наш отработанный алгоритм, позволяющий держать редкое, но потенциально опасное осложнение под полным контролем.
Когда нужна «большая» операция
Есть ситуации, когда эндоскопии мало: шеечная эктопия устья, высокие степени ПМР, рецидив после инъекций, осложнения вмешательств при сохранной функции почки. Тогда выполняем неоимплантацию мочеточника — пересаживаем его в новый подслизистый туннель с формированием антирефлюксного механизма.
Наиболее надёжной и воспроизводимой в детском возрасте мы считаем операцию Коэна (крест-тригональная реимплантация). По крупным сериям открытые методы в целом обеспечивают 92–98% успеха, выбор конкретной техники зависит от анатомии и клинической задачи. Лапароскопические и робот-ассистированные подходы существуют, но в детской урологии их преимущества над открытой хирургией пока дискутабельны: выше затраты и время операции, спектр осложнений шире, тогда как результативность сопоставима. В повседневную рутину их рекомендуют вводить лишь в центрах с устойчивым опытом таких операций; выбор обсуждаем с семьёй индивидуально.
Что будет после лечения и как мы наблюдаем детей
После эндоскопии дети обычно восстанавливаются быстро. Мы даём понятный план контроля: раннее УЗИ, затем — визиты по индивидуальному графику, обучение родителей «тревожным признакам», внимание к гигиене и стулу (запоры ухудшают работу пузыря). При использовании объём-образующих веществ в ближайшие месяцы избегаем прогревающих физиопроцедур на область пузыря.
Если выбран консервативный путь, следим за инфекциями (при прорывных фебрильных инфекциях мочевых путей тактика меняется), оцениваем работу мочевого пузыря; при наличии инфекции сначала лечим именно её — это повышает шансы на регресс ПМР и снижает риск рубцевания.
Почему за помощью стоит обратиться в Ильинскую больницу
Потому что вы получаете сразу всё: экспертную диагностику, команду детских урологов, хирургов, нефрологов, педиатров и анестезиологов, современную эндоскопическую и открытую хирургию, безопасную детскую анестезию и формат, удобный для семьи — совместное пребывание, подробные разъяснения, постоянную связь с лечащим врачом. Главное — мы не «продаём операции», а выбираем путь, который лучше для ребёнка именно сейчас.
Пара слов о цифрах, источниках информации и рекомендациях
Мы ориентируемся на международные гайдлайны Европейской ассоциации урологов и научные обзоры: в них обоснованы стратегии «наблюдать или лечить», показания к эндоскопии и реконструкции, ожидаемые результаты и риски.
Если коротко: низкие бессимптомные степени часто наблюдаем; при факторах риска и/или высокой степени рефлюкса обсуждаем коррекцию; при стойких прорывных ИМП предлагаем эндоскопию или реимплантацию; выбор зависит от анатомии, функции почек, работы мочевого пузыря и семейных приоритетов.
Если у вашего ребёнка подозрение на ПМР или уже есть диагноз — приходите. Мы аккуратно пройдём путь от «подозрения» к чёткому плану и объясним каждое решение простым языком. Задача команды Ильинской больницы — сохранить почки и спокойствие вашей семьи.



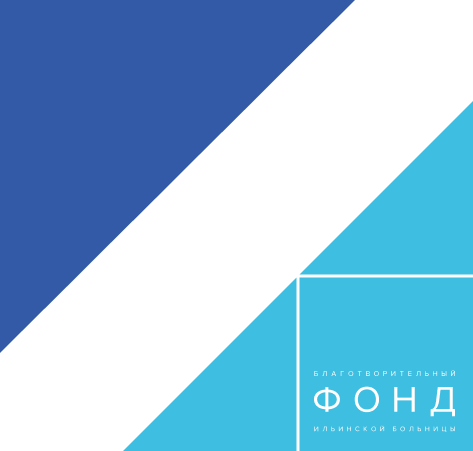

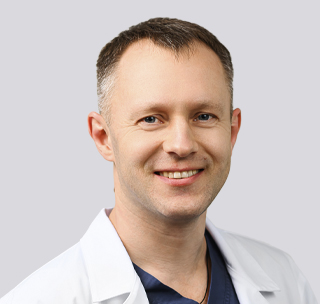 Куликов Денис Валентинович
Куликов Денис Валентинович