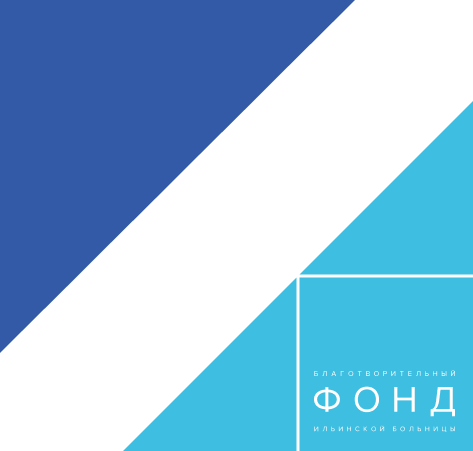- О нас
-
Пациентам
- Экстренная помощь
- Прибытие в Ильинскую больницу на машине Скорой медицинской помощи
- Первичному пациенту
- Запись на лучевую диагностику
- Стоимость и оплата услуг
- Обслуживание по полисам ДМС и иностранным страховым полисам
- Дистанционные услуги
- Амбулаторный прием
- Стационарное лечение
- Служба семейных врачей
- Личный кабинет
- Правила для пациентов и посетителей
- Книги врачей Ильинской Больницы, медицинский журнал
- Социальные сети и полезные ссылки
-
Направления
- Направления
- Экстренная помощь по всем медицинским направлениям
- Педиатрия
- Госпитальная терапия (стационар)
- Аллергология
- Анестезиология
- Восстановительная медицина и реабилитация
- Гастроэнтерология и гепатология
- Гематология
- Гинекология и онкогинекология
- Гнойная хирургия
- Дерматовенерология
- Детская стоматология
- Детская хирургия
- Диетология и нутрициология
- Кардиология
- Колопроктология
- Лечение боли
- Лучевая диагностика
- Маммология
- Медицина образа жизни
- Неврология
- Нейрохирургия
- Нефрология
- Общая хирургия
- Онкология
- Операционный блок
- Ортопедия и травматология
- Оториноларингология
- Офтальмология
- Психиатрия, психотерапия, клиническая психология
- Пульмонология
- Реанимация и интенсивная терапия
- Ревматология
- Реконструктивная и пластическая хирургия
- Робот-ассистированная хирургия
- Сестринский уход
- Сомнология
- Сосудистая и рентгенэндоваскулярная хирургия
- Спинальная хирургия
- Урология
- Центр диагностики и лечения аутовоспалительных заболеваний
- Центр женского здоровья
- Центр лазерной проктологии
- Центр лечения ожирения
- Центр семейной медицины
- Центр тазовой хирургии
- Центр хирургии головы и шеи
- Челюстно-лицевая хирургия
- Эндокринология
- Эндоскопия и минимально инвазивная хирургия
- Эпидемиология
- Сотрудники
- Подкаст
- Отзывы
- Контакты
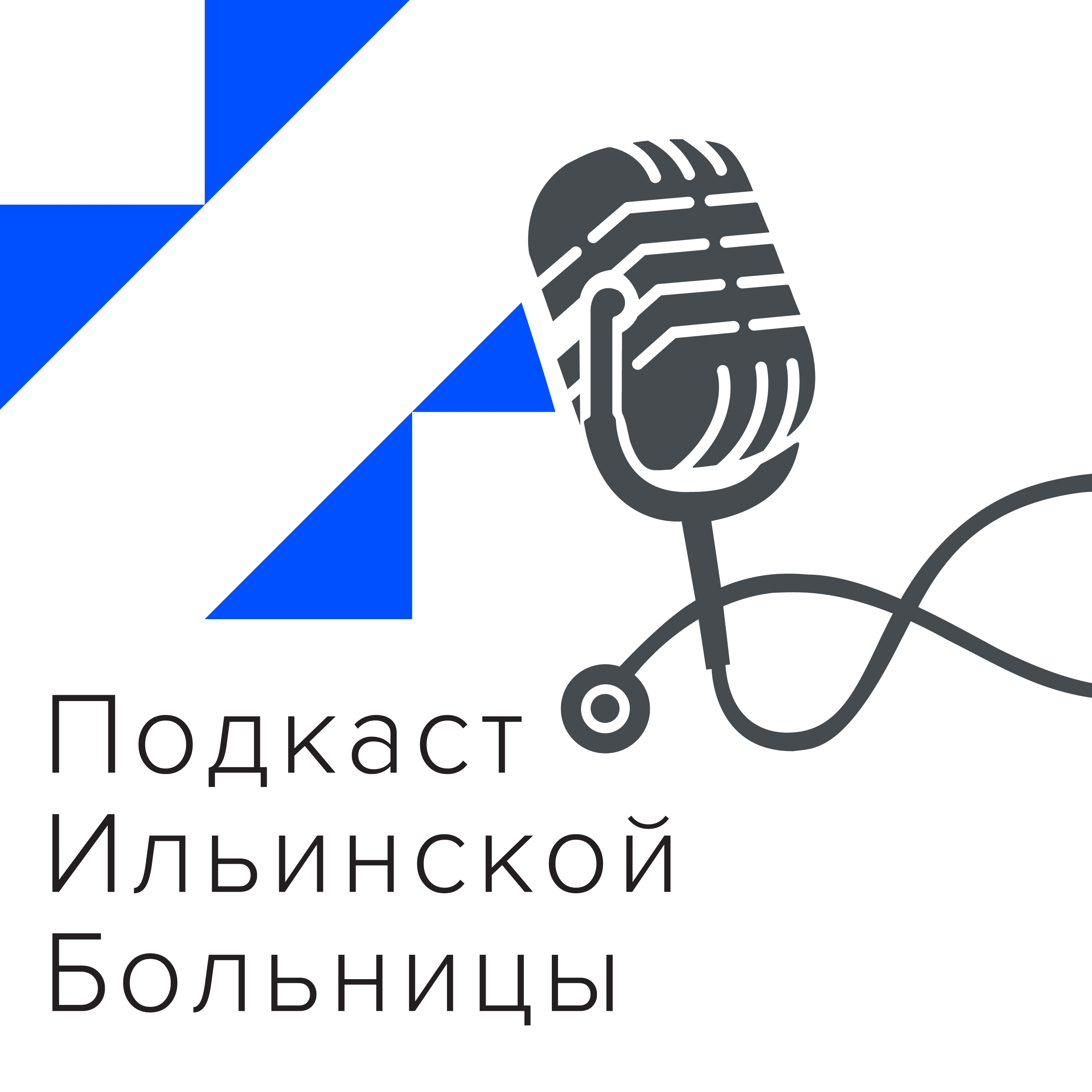
Выпуск 4.2 | Дети не болеют раком? Всё, что важно знать о детской онкологии
В гостях у ревматолога, иммунолога, к.м.н. Анны Леонидовны Козловой Детский онколог Жанна Сергеевна Супик. Специалисты обсудили:
- тревожные симптомы у детей, которые могут указывать на онкологию;
- методы диагностики онкологических заболеваний у детей;
- отличия детской онкологии от взрослой;
- роль наследственности в развитии онкологических заболеваний;
- связь онкологии с вирусами ВПЧ и Эпштейна-Барр;
- агрессивные методы лечения в детской онкологии;
- мифы и опасные заблуждения о безопасном лечении, лучевой нагрузке и вакцинации.
Ревматолог, иммунолог, педиатр, к.м.н. А.Л.Козлова: https://ihosp.ru/DKBlr5E9 | Детский онколог Ж.С.Супик: https://ihosp.ru/hgYkUXu_ | Все выпуски подкаста: https://ihosp.ru/8Ujei0WX
Аудиоверсия
Видеоверсия
Анна Козлова: Добрый день, уважаемые
друзья! Мы продолжаем серию подкастов Ильинской больницы. Это у нас четвёртый
сезон, и посвящён он детским болезням. Веду его я, ревматолог, иммунолог
детский, педиатр Ильинской больницы и руководитель Центра аутовоспалительных
заболеваний.
И у меня в гостях сегодня наш прекрасный специалист, детский онколог,
специалист по паллиативной помощи — Супик Жанна Сергеевна.
Жанна Супик: Здравствуйте, Анна Леонидовна, здравствуйте, коллеги, родители,
все, кто смотрит этот подкаст. Да, меня зовут Супик Жанна Сергеевна, я врач,
детский онколог, врач паллиативной помощи. И, собственно, да, я занимаюсь
детской онкологией уже практически 13 лет, и пришла я в неё так: впервые, когда
я попала в отделение детской онкологии, я встретила этих детей, поняла, что
всё, это то, чем я хочу заниматься всю жизнь. Это было на шестом курсе
университета.
Ну и дальше был долгий путь: я приехала из Ростова-на-Дону в Москву, работала в
федеральном центре, где мы, собственно, с вами вместе работали и познакомились.
После этого была ещё работа в детском хосписе, поэтому, да, паллиативную помощь
я тоже знаю достаточно хорошо. И дальше уже я оказалась в Ильинской больнице,
где работаю уже пятый год и продолжаю заниматься детской онкологией.
АК: Ну, у вас такой, да,
похвальный, серьёзный послужной список. Но это достаточно серьёзная проблема, и
вообще детская онкология — это ещё очень тяжёлая тема, тяжёлая и в
психологическом плане для родителей. Поэтому я знаю даже по опыту: помимо
специалистов-онкологов и многих сопутствующих специалистов, сопровождающих
детей, есть ещё и психологическая помощь, и разные реабилитационные
мероприятия, потому что выход из этого состояния неоднозначен, и всё зависит,
собственно, от самого заболевания, от его течения.
Вот я хотела бы, наверное, начать с того, на что родителю обратить внимание у
ребёнка, что должно явиться каким-то настораживающим признаком, почему родитель
должен привести ребёнка на консультацию к онкологу.
ЖС: Да, это хороший вопрос. На самом деле, к сожалению, очень часто онкологические заболевания, особенно у детей, протекают без каких-либо симптомов, по крайней мере на начальных стадиях. Далее, симптомы, которые могут быть, они тоже, к сожалению, очень часто неспецифичны, то есть встречаются при множестве других заболеваний: общая слабость, повышение температуры тела, утомляемость. И здесь, конечно, сложно заподозрить, но всё-таки есть некоторые симптомы, которые должны быть такими красными флажками для родителей.
В первую очередь, я
думаю, многие слышали об этом, — это увеличение периферических лимфатических
узлов, значительное увеличение, особенно если оно не сопровождается
инфекционным процессом в данный момент.
Также, наверняка все наслышаны, о кровотечениях — носовые кровотечения,
кровотечения из слизистых, дёсен, которые легко появляются, и так называемые
синяки, гематомы по телу, не связанны с физическим воздействием, то есть не от
того, что ребёнок упал, ударился, а спонтанно появляющиеся.
Ещё очень частая история, которую даже педиатры в первичном звене часто путают,
— это тошнота, рвота у ребёнка. И очень редко кому-то приходит в голову, что у
ребёнка может быть, например, опухоль головного мозга. И рвоту очень долго
лечат как гастрит и прочие заболевания ЖКТ. Поэтому рвота, особенно в утреннее
время, плюс если она сопровождается головной болью, — это однозначно большой
красный флаг.
Также можно отметить внезапно появившуюся хромоту, изменение зрения, например,
косоглазие, которое вдруг появилось, или двоение в глазах — это всё требует
внимания.
АК: Вот с теми симптомами,
что вы перечислили, обычно, наверное, родитель пойдёт на консультацию к
неврологу или офтальмологу, потому что шаткость походки, нарушение зрения — это
такие неспецифичные признаки, и к ним никто не готов. Родитель вряд ли
подумает, что может быть что-то не так, тем более не в эту сторону. Тут ещё и
должна быть настороженность специалистов, чтобы, помимо обычной проверки
зрения, обратить внимание на особые признаки.
Мы, конечно, может быть, залезем не на свою территорию. Вот со стороны
офтальмологии: что обычно при онкопроцессе центральной нервной системы,
головного мозга, видят специалисты? Это отёк диска зрительного нерва, да?
ЖС: Отёк диска зрительного нерва — это то, что при осмотре офтальмологом можно заметить. Также, как я уже отметила, это косоглазие, выпадение полей зрения — то, что не всегда можно сразу понять, но тем не менее это может быть специфическим симптомом. Двоение в глазах тоже часто появляется.
АК: В любом случае,
независимо от того, о чём думает или боится родитель, первое, что он должен
сделать, — это обратиться к педиатру, который ведёт ребёнка, и дальше уже
поэтапно продолжить обследование и, может быть, развеять те мифы, которые
иногда создаются в сознании родителей.
Наша команда детских врачей, педиатров Ильинской больницы, достаточно
квалифицированная, сильная, она может помочь в этом направлении. Тем более, я
думаю, Жанна Сергеевна меня поддержит, что в большинстве случаев такие
предположения родителей не находят подтверждения.
Тут главное — не упустить время, не потерять эту настороженность. Но в любом
случае дальнейшее обследование должно идти через педиатра, с поэтапным
направлением и обследованием ребенка.
Я бы хотела вернуться к общим симптомам онкологии, потому что помимо головной боли, тошноты, рвоты, шаткости походки и проблем с глазами очень часто жалобы родителей связаны с увеличенными периферическими лимфатическими узлами. И порой мы занимаемся тем, что развеиваем эти мифы о том, что у ребенка что-то ни дай бог есть, скорее всего, у родителей есть некая настороженность по отягощенному семейному анамнезу, поэтому они боятся, чтобы подобная история не повторилась с детьми. Какие размеры лимфатических узлов или как они должны выглядеть, чтобы они насторожили?
ЖС: Да, по поводу
лимфатических узлов — это действительно очень частая история, и, в принципе,
такой ребёнок с увеличенными чаще всего шейными лимфоузлами — это классический
пациент в кабинете детского онколога с испуганными родителями. Но действительно
в подавляющем большинстве случаев это абсолютно доброкачественная история,
которая связана чаще всего с инфекционными процессами, вирусными, ОРВИ
банальными, либо, возможно, с Эпштейна-Барр инфекцией.
Но, соответственно, да, у нас действительно есть определённые подходы. То есть
по размерам: у детей первого года жизни считается, что лимфатические узлы
больше чем один сантиметр должны настораживать, у более старшего возраста —
более двух сантиметров. Если это ещё больше, больше чем 3-4 сантиметра, то
однозначно это считается тем, на что нужно срочно обращать внимание.
Но важен не только размер, потому что в целом, если говорить про злокачественные
клетки, они могут быть и в лимфатических узлах меньшего размера, конечно же.
Поэтому здесь осмотр педиатра — это очень важно, потому что пальпация, просто
говоря, на ощупь — какие эти лимфатические узлы. То есть, если они мягкие,
эластичные, не спаянные с окружающими тканями, то это считается более
нормальной историей. Также ещё важна локализация. Например, если это
надключичные лимфатические узлы, то это тоже такой большой настораживающий
момент, который может привести прямо к достаточно срочной биопсии, потому что
все остальные истории, когда это увеличение шейных лимфатических узлов и то,
что я уже перечислила, да, они мягкие, не спаяны между собой и всё остальное,
то это практически всегда наблюдение.
То есть в совокупности
с общим анализом крови и ещё несколькими анализами, это может быть назначение
антибактериальной терапии. Но да, здесь важно помнить о длительности
антибактериальной терапии, потому что я очень часто встречаюсь с этими
ситуациями, когда приходят уже с ребёнком, которого уже пытались полечить,
назначили антибиотики на 3-5 дней, и, соответственно, потом сначала всё
улучшилось, а потом снова увеличилось, и родители уже совсем в панике
прибегают.
То есть, соответственно, да, длительность антибактериальной терапии в этой
ситуации должна быть не менее 10 дней, от 10 до 14 дней, и дальше мы наблюдаем.
Если они уменьшаются на фоне этого лечения, то дальше никакого наблюдения не
требуется. Если же они продолжают расти, да, несмотря на терапию, то это уже
требует дополнительных действий.
АК: Ну вот вы очень хорошо сказали про возраст, ещё про размеры, но вот помимо ещё того, что могут быть онкологические какие-то процессы или инфекционные процессы, связанные с увеличенными лимфоузлами, мы ещё вот имеем ряд наследственных заболеваний, те же самые заболевания, связанные с дефектом иммунитета, поэтому всё, что раньше называлось первичным иммунодефицитом, это не надо путать с ВИЧ-инфекцией, да, или СПИДом, иногда называют, оно тоже может быть связано с таким неконтролируемым увеличением лимфоузлов, и это не проявление ни онкопроцесса, ни инфекционного заболевания, это абсолютно другие заболевания, и, в общем, первый шаг, который должен сделать родитель, это привести ребёнка к педиатру, провести сначала стартовые исследования, анализы, осмотр, может быть, инструментальные методы исследования и дальше уже потом по тем изменениям, которые будут найдены, продолжить свой диагностический поиск и путь.
Конечно, консультация детского онколога — это, наверное, некая такая уже практически вершина айсберга, до него нужно дойти поэтапно, и сначала мы исключаем все основные часто встречаемые предположения.
А вот что вы скажете, то, что часто волнует в жизни пациентов, родителей, и то, что является, наверное, такой определённой проблемной зоной, это дети-подростки, у которых увеличенные лимфоузлы, у которых субфебрилитет, может быть, повышенная потливость, как быть с ними, потому что если посмотреть в совокупности, это не очень такой спокойный контингент из наших пациентов.
ЖС: Да, действительно, вышеупомянутый случай — это действительно тоже частая история, ну, относительно частая. Это в детской онкологии может называться так называемыми B-симптомами, то есть то, что ночная потливость повышена, повышение температуры тела, увеличение также лимфатических узлов, но это не всегда. Это не всегда видно, да, лимфатические узлы могут быть увеличены внутри грудной клетки и, соответственно, это никак внешне незаметно, и снижение веса более чем на 10% в течение относительно короткого времени.
АК: Особенно для девочек, которые сидят на диетах, и это может пройти не очень заметно.
ЖС: Да, конечно. То есть это всё также может являться признаками онкологического заболевания, но опять мы здесь никак не можем пройти мимо педиатра. То есть педиатры, они все знают про эти симптомы и всегда направят туда, куда нужно.
АК: Первое звено. А вот чем отличается именно детская онкология от взрослой онкологии? Вроде бы как бы это одно направление, практически один специалист. У вас, кстати, мне кажется, и сертификация, да, отличается детская и взрослая?
ЖС: Отличается.
АК: А ведение, подход, на что нужно обратить внимание, как себя повести дальше, диагностика, и потом может быть тактика ведения. Вот я знаю тоже по опыту работы в нашем с вами общем центре из прошлого о том, что есть разные протоколы к ведению пациентов, вот расскажите об этом.
ЖС: Да, на самом деле, я бы
сказала, что детская онкология и взрослая онкология — это действительно
практически разные науки, потому что, да, я скажу такую супергромкую вещь: дети
не болеют раком. Практически это так и есть, то есть за редким исключением дети
действительно не болеют так называемыми взрослыми раками, которыми болеют люди,
скажем так, старше 40-50 лет. Это всё злокачественные новообразования, но они
различаются и по течению своему, и по этиологии, и по ведению, по протоколам, и
по прогнозам.
Тоже во многом это различные абсолютно вещи. То есть, в целом, можно сказать,
что лечение детской онкологии более агрессивное даже, то есть более интенсивное
и даже более агрессивное. Несмотря на то, что это дети, потому что, во-первых,
детские заболевания онкологические, они могут протекать несколько более
агрессивно, быстрее, чем взрослые, и есть всё-таки немножко разница в целях
нашего лечения, потому что в целом во взрослой онкологии пятилетняя
выживаемость считается успешным лечением, но в детской онкологии это всё не
так. Что значит пятилетняя выживаемость для двухлетнего малыша? То есть это не
успех. Поэтому, соответственно, мы лечим более интенсивно, но и результаты
зачастую у нас... Я не могу сказать, что они лучше. Но действительно очень
много детей излечивается, и тоже есть такая разница, что для большинства
взрослых онкологических заболеваний, так называемая четвёртая стадия и наличие отдалённых
метастазов, это считается изначально неизлечимой историей, то есть вопрос
длительности жизни, качества жизни на фоне лечения. В детской онкологии это
немного не так, ряд детских онкологических заболеваний, несмотря на наличие
отдалённых метастазов на начало заболевания, также могут быть полностью
излечены.
АК: Скажите, пожалуйста, а
вот у нас существуют с каждым годом всё более и более совершенные подходы к
терапии, потому что обновляются протоколы, появляются новые препараты,
проводятся новые клинические исследования, и вот, наверное, и выживаемость
тоже, соответственно, она изменяется, надеюсь, в лучшую сторону, естественно,
зачем бы всё это было.
А скажите, по частоте встречаемости, чем чаще болеют из онкологических
заболеваний дети, а чем чаще взрослые? Ну вот такая статистика. Про то, что
дети не болеют раком, это я услышала, мне даже кажется, можно это сделать
названием нашей встречи, да, потому что оно такое интригующее очень.
ЖС: Да, значит, в детском возрасте наиболее часто встречаются лейкозы или лейкемии, или гемобластозы их называют, то есть это злокачественные заболевания крови, то есть острый лимфобластный лейкоз — это самая частая детская опухоль. Далее у нас идут опухоли центральной нервной системы, опухоли головного мозга, иногда и спинного мозга. И далее саркомы, так называемые опухоли мягких тканей, саркомы костей. И далее есть более редкие заболевания, то есть нефробластомы, нейробластомы и ряд ещё других опухолей. А во взрослом возрасте, тоже в зависимости от пола, у женщин это рак молочной железы, у мужчин рак лёгкого. То есть, допустим, теми же острыми лимфобластными лейкозами взрослое население болеет в разы реже, гораздо реже.
АК: А как вы думаете, ваш просто такой опыт, наверное, насмотренность в отношении отягощённого семейного анамнеза? Если в семье есть члены семьи, бабушки, дедушки или у родителей какой-то отягощённый анамнез по онкозаболеванию. Насколько часто у детей это проявляется? И если, ну я так забегу вперёд, если да, то, возможно, может быть проведение заранее генетических исследований или может быть какая-то предупреждающая терапия, ну вот как вариант.
ЖС: Да, что касается
семейных случаев, так называемых, то есть есть действительно некоторый ряд
онкологических заболеваний, которые должны настораживать уже взрослого, здесь
онколога, так называемого, взрослого, в плане дообследования насчёт
наследственных синдромов. Но то, что чаще всего просто в практике, какая
история, то есть это семья, в которой действительно есть бабушки-дедушки, у
одной бабушки есть рак молочной железы, у другой ещё какой-нибудь рак
щитовидной железы, то есть, что угодно. В подавляющем большинстве случаев это
не является семейными историями, то есть, настораживает обычно молодой возраст.
То есть, для разных нозологий это по-разному, но в целом это младше 40 лет,
иногда это младше 50 лет при некоторых заболеваниях. Тогда тоже взрослый
онколог может направить эту семью на дообследование.
Но у детей около 10, максимум 15% всех онкологических заболеваний связаны с
наследственными историями, т.е. так называемые синдромы предрасположенности к
опухолям — это ситуация, когда в клетках организма есть герминальная мутация,
это означает, что эта мутация есть в каждой клетке организма, не только в
клетке опухоли, а во всех.
И вот в этих ситуациях развивается тот самый синдром предрасположенности. Но
это действительно очень редкая история, и то, что в общей популяции принято
считать предрасположенностью к ракам, на самом деле в большинстве случаев ею не
является. И если мы говорим о тех историях, где действительно есть этот наследственный
синдром, там действительно для каждого синдрома прописано наблюдение. То есть
дети должны начинать обследоваться по определённому графику, с определённого
возраста.
Что касается предупреждения, к сожалению, пока ничего из этого не придумано. То
есть, только обследование и раннее выявление.
АК: А как вы относитесь к вакцинации, которая предупреждает развитие онкозаболеваний?
ЖС: Из известных мне существует, по сути, только одна вакцина, которая работает. То есть, это вакцина против вируса папилломы человека. Это то, что действительно доказано, изучено, работает, и то, что нужно делать.
АК: Вот тут такой, простите, перебиваю вопрос. Нужно делать только девочкам или нужно делать всем?
ЖС: Нужно делать всем, потому что тот самый вирус, он ассоциирован с несколькими онкологическими заболеваниями. Они, конечно, происходят в более старшем возрасте, но тем не менее. То есть это рак шейки матки, это рак анального канала, и это опухоли головы и шеи, то есть назофарингеальные карциномы, опухоли ротоглотки — они могут быть ассоциированы с ВПЧ.
АК: Жанна Сергеевна, ну, про вирус папилломы человека более-менее понятно. А вот ещё другой тоже вирус, который достаточно часто встречается среди наших пациентов, и то, что очень часто тревожит родителей.
Родители иногда приходят на консультацию, приносят с собой анализы, где мы видим положительный титр антител к вирусу Эпштейна-Барр, и при этом, если у ребёнка есть ещё и увеличенные периферические лимфоузлы, то это со стороны родителей иногда почти готовый диагноз. И почему доктор, который видя всё это, не начинает назначать массу разных вообще необходимых анализов и не включается очень активно в жизнь ребёнка — это ставит родителей в тупик.
Вот вы как детский онколог, скажите, ваше отношение к вирусу Эпштейна-Барр и к антителам в анализах, с которыми родители часто приходят.
ЖС: Да, действительно, история с Эпштейном-Барр, она, конечно, непростая в том плане, что, к сожалению, действительно, вирус Эпштейна-Барр ассоциирован также, то есть, по сути, с чего мы начали — что есть всего несколько вирусов, которые доказано могут вызывать развитие онкологических процессов, ну или, по крайней мере, быть ассоциированы с их развитием. То есть, первый — ВПЧ, и второй — это вирус Эпштейна-Барр. То есть, точно так же, там есть ряд заболеваний: чаще это лимфомы определённые, иногда это тоже опухоли головы и шеи, тоже могут быть связаны с Эпштейном-Барр.
Но, в целом, далеко не обязательно, что он к этому приведёт, потому что антитела... Ну, я, конечно, не скажу, что не у каждого второго, но это очень частая история, в отличие от лимфомы, которая ассоциирована с вирусом Эпштейна-Барр. Но, может быть, это даже вопрос больше не к онкологам, а какая-то история, связанная с иммунологией. И, наверное, вы, Анна Леонидовна, здесь даже больше скажете, лучше скажете, чем я.
АК: А я считаю, что наличие антител к вирусу Эпштейна-Барр — это, собственно, наверное, даже и хорошо. Если есть антитела после встречи с вирусом, с вирусным агентом, то это значит, что у человека хороший антительный ответ. Значит, он готов к встрече с инфекцией, что он может бороться, что он синтезировал клетки памяти, и это те клетки, с которыми совсем не надо бороться — с ними нужно радоваться и жить. Это значит, что есть иммунитет, и он выработался, значит, человек здоров. Лечить память — ну, это не очень правильно и не очень хорошо во всех, собственно, смыслах.
Да, мы знаем, что есть Эпштейн-Барр-ассоциированные онкологические заболевания, и ряд детей, например, с дефектом иммунитета тоже может иметь персистирующую Эпштейна-Барр вирусную инфекцию. Но это всё-таки в меньшей степени антитела — мы определяем копийность, то есть мы определяем наличие самого вируса в крови или вообще в средах организма методом ДНК-диагностики.
Терапия онкологов протокольная, это протоколы, они в общем-то выверены временем, разными исследованиями, там есть прогнозы — это прекрасное состояние. И мне всегда, наверное, с какой-то определённой, может быть, даже завистью я смотрела на онкологов, потому что есть чёткость действия, в отличие, например, от иммунологов, где заболевания очень многие орфанные, опыт единичный, всё абсолютно нестандартное, всё исключительно персонифицировано под каждого пациента индивидуально по особенностям течения заболевания. Есть какие-то общие подходы, но их невозможно распространить на всех и каждого, в отличие, наверное, от большинства онкологических подходов.
ЖС: Я с вами здесь соглашусь, и я также немножко завидую взрослым онкологам, потому что вот где действительно протокольное лечение — благодаря, к сожалению, большому количеству пациентов, которые накопились за все годы изучения онкологических процессов. И мы, детские онкологи, смотрим на всё это, потому что детские онкологические заболевания — тоже ряд из них очень редки.
Есть подвиды опухолей, где максимально описано во всём мире, например, собрано 35 случаев за все годы из всех стран. И, соответственно, как хочешь, так и лечи. Допустим, во взрослой онкологии, например, может быть одно маленькое исследование в одной стране, оно включает в себя больше пациентов, чем суммарно было за всю историю по какому-нибудь другому детскому заболеванию. Поэтому здесь тоже в этом плане нам тоже порой непросто.
АК: Ну, я, может быть, знаете, сейчас в процессе разговора поняла, что, может быть, многие не понимают. Да, с одной стороны, в общем, онкология — это просто такое достаточно широкое понятие, что просто есть и солидная онкология, есть, где у нас просто определённый объём, мы можем его в ряде случаев нащупать, пропальпировать, иногда даже увидеть, но в любом случае мы его всегда можем практически визуализировать, используя разные методы диагностики.
А есть другая онкология — те гемобластозы, про которые вы говорили, и, собственно, тактика ведения тоже она вообще колоссально везде отличается. Тут даже не говоря про какие-то глобальные вещи, но помимо, наверное, привычной нам... Как привычной — тоже, в общем, наверное, неправильное слово в этом случае, но в таком типовом лечении — это полихимиотерапия в отношении онкопроцессов таких солидных, это хирургическое вмешательство, удаление, это лучевая терапия…
ЖС: Также есть иммунотерапия, есть таргетная терапия.
АК: И тут нам на помощь приходят врачи-морфологи, гистологи для того, чтобы помочь.
Вот я, наверное, к этому хотела подвести — к тому, что для диагностики нам нужны не только какие-то осмотры, анализы, визуализация, порой биопсия материала, того, где есть проблема, его гистологическое, морфологическое описание, иммуногистохимические исследования, определение вирусности, ассоциации, участие вирусов в самом патологическом процессе, и от этого будет зависеть тип онкопроцесса и подбор терапии.
ЖС: Всё так и есть. Действительно, особенно это очень актуально для детской онкологии, потому что огромное количество подтипов различных онкологических заболеваний, начиная от того же острого лимфобластного лейкоза. Да, нам нужно и идентифицировать его по типу, найти, есть ли какие-то мутации, которые будут влиять и на прогноз, и на лечение в том числе.
Может быть, нужно интенсифицировать лечение или добавить какой-то специальный препарат, который мы не будем добавлять для общей группы других пациентов. И точно так же это актуально для солидных опухолей. То есть гистология и иммуногистохимия — это просто краеугольный камень, без этого мы никуда не можем двинуться, потому что лечение абсолютно зависит от подтипа. То есть это может быть один протокол для лечения, ну, например, рабдомиосаркомы, и в этом протоколе мы тоже можем выявить подгруппы, так называемые группы низкого риска, среднего и высокого риска.
И в зависимости от этого мы будем тоже по-разному лечить, можем использовать разные препараты.
АК: Жанна Сергеевна, помимо... Ну, сложно сказать, привычной, обыденной — вообще не слова, употребляемые в контексте онкологии, но, наверное, традиционной, правильнее выразиться. Терапия онкологических заболеваний — это полихимиотерапия, может быть, терапия таргетная. Есть ещё и определённый вид терапии — это трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Расскажите, пожалуйста, при каких заболеваниях, в каких случаях используют этот метод терапии?
ЖС: Что касается ТГСК, то есть есть две группы: есть аутотрансплантация и аллогенная трансплантация. Аутотрансплантация используется для ряда солидных опухолей, по типу иногда саркомы Юинга, например, при лимфоме Ходжкина ещё может использоваться. И там просто суть в том, что у ребёнка забирают его периферические гемопоэтические стволовые клетки. То есть, по сути, просто из вены его собственные, они заготавливаются, хранятся и ждут своего часа.
После этого ребёнку проводят высокодозную химиотерапию. То есть здесь суть всей этой процедуры именно в этой высокодозной химиотерапии. И чтобы после всей этой процедуры ребёнок восстановился, чтобы у него было меньше осложнений, чтобы у него могло восстановиться кроветворение, ему возвращают его гемопоэтические стволовые клетки, у него восстанавливается кроветворение, и на этом, собственно, лечение обычно завершается.
А аллогенная трансплантация — это другая история, то есть это от другого человека, от донора, и используется это чаще, по крайней мере, в детской онкологии, это чаще используется при тех самых гемобластозах, при лейкемиях, и обычно это чаще всего при рефрактерных течениях заболевания, когда опухоль нечувствительна к традиционным методам лечения. Но иногда мы можем это знать в самом начале, когда мы определяем подтип лейкоза и видим, что он суперагрессивный, например, иногда мы знаем сразу, что будет показано ТГСК.
АК: Я хотела бы ещё дополнить вас в отношении алло-ТГСК. Просто вот я, так как занимаюсь тяжёлыми аутоиммунными заболеваниями, аутовоспалительными заболеваниями, ну и вообще разными такими сложными, порой труднодиагностируемыми патологиями. Хочу сказать, что трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, именно алло-трансплантация, она проводится ещё и при тяжёлых рефрактерных системных красных волчанках.
Знаю, что коллеги-неврологи проводят при рассеянных склерозах, и ещё при ряде других показаний. То есть это тот метод терапии, но, наверное, можно сказать, что это метод отчаяния в какой-то степени, то есть когда уже всё попробовали, и организм ко всему рефрактерен, можно провести, наверное, такую... Уместно ли это термин — "ковровую" полихимиотерапию с такими ударными дозами, где, может быть, если так образно сказать, остаётся такое выжженное поле, и чтобы, в общем-то, спасти свои стволовые клетки, их изначально изымают, хранят, проводят химиотерапию, убирают все клоны, которые мешают и производят те самые аутоантитела, аутоагрессивные клетки, и потом уже после всего возвращают для восстановления нормального функционирования.
Ну, это такой мой комментарий из моего личного, наверное, профессионального опыта. Но, честно говоря, я знаю просто коллег, кто этим занимается и достаточно успешно.
Жанна Сергеевна, какие исследования необходимо провести для того, чтобы осуществить онкопоиск? Обычно это какая визуализация?
ЖС: Обычно в детской... Если мы говорим про, опять же, мы говорим про детей, поэтому здесь, как у взрослых, гастроскопии, колоноскопии редко используются, опять же, с учётом специфичности опухолей, где они растут у детей. Поэтому для ребёнка это чаще всего КТ — компьютерная томография: грудная клетка, брюшная полость, малый таз. С контрастным усилением обязательно, потому что это тоже очень частая проблема, когда делают исследование бесконтрастное, и если в грудной клетке мы увидим ещё определённые вещи, то в брюшной полости, в малом тазу мы ничего бесконтрастно не увидим, ничего... Я имею в виду, опухоль, мы нормально не увидим. Поэтому это может, получиться зачастую просто бесполезное исследование, и приходится переделывать его заново. То есть, когда дети приходят к нам в Ильинскую больницу с этими бесконтрастными исследованиями, сделанными где-то в других местах, нам приходится их переделывать.
АК: А тут тоже вот, простите, такая ремарка: а какой функционал у контрастного усиления, вот для чего он нужен, чем он улучшает само исследование, чтобы было понятно всем?
ЖС: Ну, то есть, это, конечно, такой... Я думаю, что большой вопрос к лучевому диагносту в том плане, что там есть очень много тонкостей, но в целом там ведь есть в исследовании в КТ, там есть артериальная фаза, есть венозная фаза, и в зависимости от того, как этот контраст накапливается, как он выводится, это всё влияет в итоге на правильность постановки диагноза. Поэтому контраст для брюшной полости, для малого таза... И забегая вперёд, МРТ — чаще всего мы делаем МРТ головного мозга, точно так же МРТ головного мозга бесконтрастная для поиска опухоли, она тоже будет неинформативна.
То есть, например, если, конечно же, в головном мозге, не дай бог, есть какая-нибудь огромная опухоль, ну, конечно, мы её увидим и без контраста тоже. Но если это какие-то не очень большие образования, если это метастазы, то они будут просто не видны.
АК: Ну да, контраст, собственно... Ну, просто сама опухоль, она всегда отличается ещё тем, что она активно делится. И вот контраст — он всё, что делится активно, оно на себя, как, собственно, и воспаление, да, вот, собственно, все очаги воспаления дополнительно, они на себя вот так берут этот контраст, и они активнее светятся, и поэтому эту ткань можно, в общем-то, дифференцировать от всех прилегающих тканей, если она даже вот как-то не обособлена и никакого большого объёма не имеет. А вот МРТ — это, как правило, головной мозг, да?
ЖС: Да, чаще всего МРТ — это МРТ головного мозга, и это может быть ещё МРТ брюшной полости, например, если нам нужно более прицельно печень посмотреть, потому что, например, мелкие метастазы в печени, они на компьютерной томографии могут быть тоже не видны.
АК: А как вы относитесь к МРТ total body или всего тела?
ЖС: Не очень хорошо отношусь, потому что в очень редких случаях это может где-то заменить некоторые исследования, например, МР-диффузия костей скелета. Например, иногда, если нет возможности сделать остеосцинтиграфию, то есть полноценное исследование с радиоизотопами скелета для исключения метастатического поражения костей, соответственно, иногда мы можем использовать эту МР-диффузию костей скелета посмотреть, но это не совсем равноценно. Поэтому в целом плохо отношусь.
АК: Ну, ещё и разрешение, мне кажется, да, при МРТ.
ЖС: Да, то есть это всё не очень информативно, то есть что мы ищем. То есть, если мы ищем вообще что-то в целом, то тут уж это в целом не очень правильно это делать, если нет показаний. Но если уж мы про это говорим, то тогда уже ПЭТ-КТ. ПЭТ-КТ тоже с радиоизотопами, с глюкозой.
АК: Надо расшифровать нашим слушателям.
ЖС: Позитронно-эмиссионная томография - это, по сути, что-то похожее на компьютерную томографию, только это всего тело уже делает снимок, и помимо обычного контраста, который вводится, йодсодержащий контраст, который вводится на компьютерной томографии, ещё вводится дополнительный радиоизотоп, который накапливается также опухолевой тканью в первую очередь, но, как вы верно ранее сказали, при воспалении тоже может накапливаться. И здесь уже это будет гораздо более информативно для оценки всего тела, в отличие от МРТ.
АК: А вот надо ли родителям бояться облучения, потому что, в общем, часто стоит вопрос, и вообще очень часто родители отказываются от проведения какой-то лучевой диагностики, потому что считают, что у ребёнка может развиться маленький Чернобыль.
ЖС: Ну, смотрите, всё ведь зависит от показаний. Да, конечно, однозначно лучевая диагностика — рентген или компьютерная томография (но не МРТ, МРТ не несёт лучевой нагрузки никакой). Соответственно, КТ — компьютерная томография — несёт. И, конечно, там есть определённые дозировки, которые должны учитываться, сколько ребёнок получил, и так далее. Но всё зависит от показаний.
Если у ребёнка есть показания к проведению исследований, то никакие лучевые нагрузки не должны нисколько останавливать ни родителей, ни врачей, потому что иногда — я слышала это даже от педиатров в определённых местах — "вот как же так, мы будем делать КТ, там же лучевая нагрузка". Но всё-таки в этой ситуации гипотетическое наличие опухоли в организме, да, оно несёт ребёнку гораздо больше вреда.
АК: Ну да, я с вами, да, конечно же, в общем, соглашусь, и я в целом всегда за визуализацию, причём достаточно такую подробную. Лучше сделать один раз КТ, чем, в общем, миллион раз рентген, который будет абсолютно неинформативен.
Скажите, пожалуйста, вот у нас ещё существует такое, наверное... Ну, мне даже сложно сказать, я никогда не сопоставляла с другими странами, но знаю, что иногда, в общем, просто люди думают, что какая-то проблема может рассосаться самостоятельно, и надо только попить каких-нибудь отваров, поговорить, повторять наговоры какие-нибудь, снадобия, обратиться к кому-нибудь с сильной энергетикой, не знаю, как этих людей назвать — шаманами, чародеями, экстрасенсами.
В целом, в общем, ваше отношение должно быть понятным, но насколько, в общем, часто такие ситуации случаются в вашей практике, были ли они, как из этого выходили, с какой помощью?
ЖС: Да, к сожалению, история с верой в нетрадиционную и даже не только медицину, но в целом нетрадиционные какие-то методы лечения, шаманов, которых вы упомянули... Я не могу сказать, что это очень частая история, но, к сожалению, и в моей практике были эти случаи. Я уверена, что в практике любого детского онколога они тоже были. Я понимаю, что это очень сложно, особенно когда, например, опухоль обнаружена на каких-то относительно ранних этапах, ранних стадиях.
И родителям очень сложно принять, что ребёнок, который, например, себя достаточно хорошо чувствует, которого ничего не беспокоит, который выглядит внешне здоровым на сегодняшний момент, что они должны его взять и начать лечить его, условно, ядами — химиопрепаратами, от которых он будет себя хуже чувствовать. Конечно, у него может быть тошнота, у него могут снижаться клетки крови, и это принять и осознать порой бывает иногда для некоторых людей невозможно.
Чуть-чуть проще, когда уже родители видят, что ребенок болеет, и они понимают, что ситуация серьёзная. Но, тем не менее, да, у меня были печальные случаи. О том, как, допустим, был малыш, которому выполнили... там, ему был один год, ему выполнили прекрасную операцию, удалили опухоль головного мозга, удалили её радикально. И, соответственно, опухоль была очень агрессивной. Ну, как очень? Средне-агрессивной, да, то есть, потому что есть детские опухоли головного мозга, которые вообще не лечатся.
Это была не та история. То есть у этого ребёнка были прекрасные шансы на то, чтобы вылечиться и жить прекрасно, тем более что операция на головном мозге не принесла для него никаких неврологических проблем, то есть у него не было никакого неврологического дефицита. Но мы поговорили с родителями о том, что, учитывая агрессивность опухоли, шансы на то, что она никогда не вернётся и ребенок будет здоров, по статистике, в районе 40–50%, что для такой достаточно злокачественной опухоли это в целом неплохо.
На что они сказали, что мы нашли человека, который пообещал нам 100%. Тем более что у вас ещё яды, он потом будет инвалидом и прочие вот эти все истории. Хотя это, конечно, не так. После химиотерапии бывает, что нет вообще никаких последствий для будущего.
И, соответственно, они забрали ребенка, увезли его куда-то, очевидно, к каким-то шаманам. Вот, и потом с нами связались уже из региона где-то через три месяца, наверное, о том, что ребенок находится в реанимации, в тяжелом состоянии, с метастатическим поражением всего, чего только можно. И в этом состоянии его даже уже было поздно лечить, потому что уже никакой химиотерапии он бы, конечно, не перенёс. Вот, ребенок, к сожалению, погиб, хотя могло бы быть всё совсем по-другому.
Вот, и это не единственный пример, есть ещё, к сожалению, примеры, но все эти истории о том, что кто-то излечился каким-то чудесным образом... почему-то это всегда истории, которые кто-то у кого-то слышал. Я ни разу в жизни не видела того самого человека, который бы ко мне пришёл, показал бы вот мои снимки, вот моя гистология, у меня была вот такая опухоль, и вот так я полечился — не химиотерапией, не хирургией, не лучевой терапией, — и вот я здоров.
Это всегда чьи-то какие-то истории, этих людей, по сути, вживую вот так мы никогда не видели.
АК: Жанна Сергеевна, расскажите про то, как действуют вообще препараты из категории полихимиотерапии, потому что, думаю, что для многих это некое просто словосочетание, набор фраз и звуков. С другой стороны, все прекрасно понимают, насколько это тяжёлая терапия с огромным количеством побочных эффектов и при этом сильнодействующая терапия, потому что этими препаратами лечатся онкозаболевания.
Вот почему она такая, на что она ориентирована, как она действует, и почему такие серьёзные, может быть, это, наверное, даже не нежелательные эффекты, может, и нежелательные, вы меня поправите, просто такие могут развиваться реакции на введение препаратов.
ЖС: Химиопрепараты — это группа лекарств, по сути, которые все обладают различным действием на клетку, и они её убивают различными способами, используя различные механизмы. Но суть в целом одна — химиопрепараты все действуют на быстроделящиеся клетки в организме. Самые быстроделящиеся клетки в организме — это опухолевые клетки, и на них она действует в первую очередь.
Но вслед за опухолевыми клетками идёт ряд других. То есть быстрее всего у нас в организме делятся в костном мозге клетки, клетки, допустим, слизистых — ротовая полость, желудочно-кишечный тракт. И отсюда мы получаем наиболее частые осложнения, которое бывает. То есть это падение клеток крови, снижение лейкоцитов, это приводит к более высоким рискам развития инфекционных процессов.
И под инфекционными я не имею в виду вирусные какие-то ОРВИ. То есть это, по сути, бактериальные инфекции, но чаще бактериальные, и зачастую это те самые бактерии, с которыми ребенок жил всю жизнь и которые не вызывали у него каких-то проблем, на фоне снижения лейкоцитов, нейтрофилов, они могут вызывать серьёзные проблемы — пневмонии, какие-то бактериемии, когда бактерии в кровь выходят и вызывают, по сути, жизнеугрожающую инфекцию.
Это снижение тромбоцитов — отсюда кровотечения, это снижение гемоглобина — ну, это в целом, да, всем известно, что это выраженная, там, слабость, вялость, плохое самочувствие и так далее. Вот, это слизистые, да, то есть это какие-то стоматиты, там гастриты, ещё какие-то колиты, жидкий стул, ну, всё это, да, то есть это всё обусловлено действием химиопрепаратов, это побочные эффекты. Нет такого, я тоже часто слышала о том, что могут быть химиопрепараты, что если они хорошие химиопрепараты, то от них не будет побочных эффектов.
Это маловероятно, потому что, ну, в этом суть действия самого лекарства, то есть практически не бывает химиопрепаратов, которые не имеют никаких побочных эффектов, чтобы они действовали только на опухолевую клетку и не действовали больше ни на что. И даже я тоже часто слышу о том, что новая терапия, там, «таргетная» терапия, что вот она будет действовать только на опухолевую клетку и ни на что другое.
Нет, она тоже будет, может быть, несколько не так, как химиотерапия, но она тоже будет вызывать ряд других побочных эффектов. Поэтому пока не существует препаратов, которые бы действовали только на опухолевые клетки и не влияли бы никак на организм в целом.
АК: А что вы скажете про CAR-T-клеточную терапию? Потому что это новый, такой современный виток в развитии терапии онкологических заболеваний.
ЖС: Ну, по сути, так, CAR-T-клетки — это, наверное, последнее что-то новое, которое обладает хорошей доказательной базой, и то, что случилось уже, по сути, на моей памяти, уже когда я пришла работать в онкологию. Всё это появилось, развивалось и так далее.
Нужно же сказать так, чтобы было понятно… То есть, по сути, что это такое: когда из человека, у которого чаще всего это гемобластозы, но бывает и нет... То есть сейчас есть исследования и на глиобластомах — это опухоли мозга, но всё-таки первопроходцами были пациенты с лейкемией.
Соответственно, у человека забирают его Т-клетки, Т-лимфоциты. В условиях лаборатории их, во-первых, размножают, и к ним искусственно, то есть прицепляют, если так можно сказать, определённый рецептор, и возвращают обратно в организм человека. И эти самые клетки, они научены с помощью этого рецептора распознавать опухолевые клетки и их уничтожать. Практически всегда это тоже терапия спасения, то есть когда рефрактерное течение болезни, когда не помогли другие методы лечения, тогда можно использовать CAR-T.
Я знаю, что часто складывается впечатление, что это должна быть какая-то терапия без побочных эффектов, потому что, ну, ведь это же Т-клетки, это же собственные Т-клетки, то есть это же твой иммунитет, который у тебя взяли, научили его и отправили бороться с опухолевыми клетками.
Но, к сожалению, это тоже не так, тоже есть большое количество побочных эффектов, может быть, да, то есть это может переноситься очень тяжело, вплоть до каких-то осложнений, которые нужно лечить в реанимационном отделении и так далее. То есть это тоже всё непросто. На сегодняшний день не существует методов лечения онкологических заболеваний, которые были бы безболезненны, без каких-то побочных эффектов и просто проходили бы так, как будто незаметно для организма пациента и для родителей.
АК: Вот, прямо слушая всё это, задумываешься, как же такая прекрасная, молодая, красивая девушка занимается таким тяжёлым направлением, где тяжело болеющие дети, с неопределёнными прогнозами. С другой стороны, это всегда некий шаг вперёд, когда ты получаешь результат и видишь, что всё идёт по ступенькам, по шагам к улучшению, это бесконечный просто драйв.
ЖС: Конечно, у меня есть уже целый детский сад практически, ежегодно я получаю фотографии на 1 сентября, на дни рождения, то есть те, кому было 10 месяцев, год, когда я их лечила, а сейчас они уже ходят в 3, 4, 5 класс. Вот, это однозначно, ну, как бы даёт силы работать дальше.
АК: Да, это, правда, прекрасно очень. А как вы относитесь к вакцинациям? Просто не считаете ли вы, потому что есть некое такое мнение определённой категории родителей, что вакцинация приводят к развитию онкологических заболеваний?
ЖС: Ну, я, конечно же, как приверженец доказательной медицины, я абсолютно с этим не согласна. Нет никаких исследований, которые бы подтверждали, что вакцинация может приводить к развитию онкологических заболеваний. И отдельные случаи, когда у ребенка была прививка, и через какое-то время у него случился опухолевый процесс, то есть то, что ты сказала, это не значит, что причина была в этом. То есть это просто две отдельные вещи.
АК: Однажды на конференции, мне очень просто понравилось это выражение, я его теперь иногда цитирую, профессор Щербина Анна Юрьевна сказала, что всё в жизни случается после БЦЖ, и свадьбы, и разводы, и похороны, поэтому вот всё буквально случается после первой вакцинации в роддоме. Поэтому вот найти здесь причинно-следственную связь — но это дело нехитрое очень.
Поэтому вот тут можно подтянуть и любое заболевание, конечно, сказать о том, что в семье есть проблема, и какие-то, может быть, и дефекты иммунитета, и может быть просто так звёзды сложились, что ребёнок заболел, но тут, наверное, ещё психологическая особенность — сложно принять эту проблему и начать с ней бороться.
Поэтому, конечно, работа с онкопациентом, особенно с ребенком, это огромный такой междисциплинарный труд большого количества специалистов разных профилей и, мне кажется, ещё дополнительно, ещё и с учетом того, что это тяжелое по восприятию само заболевание, принять и понять то, чем ты болеешь, и бороться с этим, это ещё такой серьёзный психологический момент, который тоже нуждается в дополнительном сопровождении специалистов.
И на этой объединяющей ноте, я думаю, что мы можем закончить нашу такую не самую простую тему, которую мы подняли. Вообще, тема онкологии непростая, а детская онкология — это вообще безумно сложно, и тут можно вообще говорить и говорить очень-очень долго и очень глубоко, и этому можно посвятить прямо вот не одну нашу встречу.
Спасибо вам, Жанна Сергеевна, за прекрасную встречу, за очень полную информацию. Думаю, что и мы, и я, и наши слушатели получили огромное удовольствие, и помимо удовольствия ещё и получили определённый пул знаний и понимание того, что происходит с ребёнком, и что иногда нужно просто не паниковать, а прийти просто на приём к педиатру, рассказать о своих проблемах и дальше уже составить, наверное, какой-то лист, маршрутизацию для проведения определённых исследований и консультаций у специалистов.
В самом конце хочу попросить Жанну Сергеевну резюмировать нашу встречу и дать несколько напутственных советов, фраз нашим слушателям.
ЖС: Дорогие слушатели, в первую очередь родители, важно, с одной стороны, не тревожиться слишком сильно, не паниковать и не искать симптомы, которых, по сути, нет, но очень важно просто хорошо узнать своего ребенка, потому что, как я сказала в самом начале, практически нет каких-то очень специфичных симптомов, которые должны направить ребенка сразу к детскому онкологу.
Просто хорошо знать своего ребенка, видеть изменения в его поведении, прислушиваться к нему, особенно если он говорит о каких-то болях, которые появились, которых не было, и, соответственно, вовремя на это реагировать. Спасибо, Анна Леонидовна, было очень приятно провести здесь с вами время и побеседовать.
АК: Взаимно.
Другие выпуски этого сезона
Спрашивайте!
-
Информация
-
Лицензии
-
Обратная связь с пациентами
-
Пациентам
- Экстренная помощь
- Прибытие в Ильинскую больницу на машине Скорой медицинской помощи
- Первичному пациенту
- Запись на лучевую диагностику
- Стоимость и оплата услуг
- Обслуживание по полисам ДМС и иностранным страховым полисам
- Дистанционные услуги
- Амбулаторный прием
- Стационарное лечение
- Служба семейных врачей
- Личный кабинет
- Правила для пациентов и посетителей
- Книги врачей Ильинской Больницы, медицинский журнал
- Социальные сети и полезные ссылки
Ильинская больница. Все права защищены. 2026 год.
143421, Московская обл., городской округ Красногорск, д. Глухово, ул. Рублёвское предместье, д. 2, корп. 2