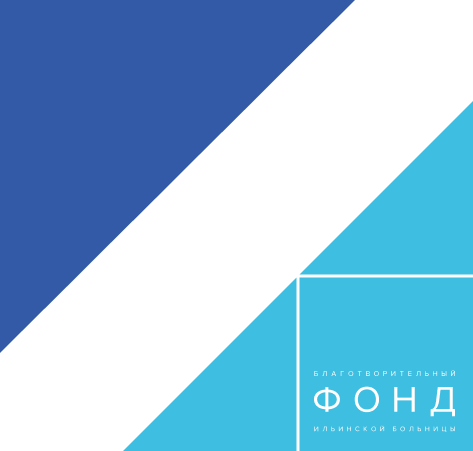- О нас
-
Пациентам
- Экстренная помощь
- Прибытие в Ильинскую больницу на машине Скорой медицинской помощи
- Первичному пациенту
- Запись на лучевую диагностику
- Стоимость и оплата услуг
- Обслуживание по полисам ДМС и иностранным страховым полисам
- Дистанционные услуги
- Амбулаторный прием
- Стационарное лечение
- Служба семейных врачей
- Личный кабинет
- Правила для пациентов и посетителей
- Книги врачей Ильинской Больницы, медицинский журнал
- Социальные сети и полезные ссылки
-
Направления
- Направления
- Экстренная помощь по всем медицинским направлениям
- Педиатрия
- Госпитальная терапия (стационар)
- Аллергология
- Анестезиология
- Восстановительная медицина и реабилитация
- Гастроэнтерология и гепатология
- Гематология
- Гинекология и онкогинекология
- Гнойная хирургия
- Дерматовенерология
- Детская стоматология
- Детская хирургия
- Диетология и нутрициология
- Кардиология
- Колопроктология
- Лечение боли
- Лучевая диагностика
- Маммология
- Медицина образа жизни
- Неврология
- Нейрохирургия
- Нефрология
- Общая хирургия
- Онкология
- Операционный блок
- Ортопедия и травматология
- Оториноларингология
- Офтальмология
- Психиатрия, психотерапия, клиническая психология
- Пульмонология
- Реанимация и интенсивная терапия
- Ревматология
- Реконструктивная и пластическая хирургия
- Робот-ассистированная хирургия
- Сестринский уход
- Сомнология
- Сосудистая и рентгенэндоваскулярная хирургия
- Спинальная хирургия
- Урология
- Центр диагностики и лечения аутовоспалительных заболеваний
- Центр женского здоровья
- Центр лазерной проктологии
- Центр лечения ожирения
- Центр семейной медицины
- Центр тазовой хирургии
- Центр хирургии головы и шеи
- Челюстно-лицевая хирургия
- Эндокринология
- Эндоскопия и минимально инвазивная хирургия
- Эпидемиология
- Сотрудники
- Подкаст
- Отзывы
- Контакты
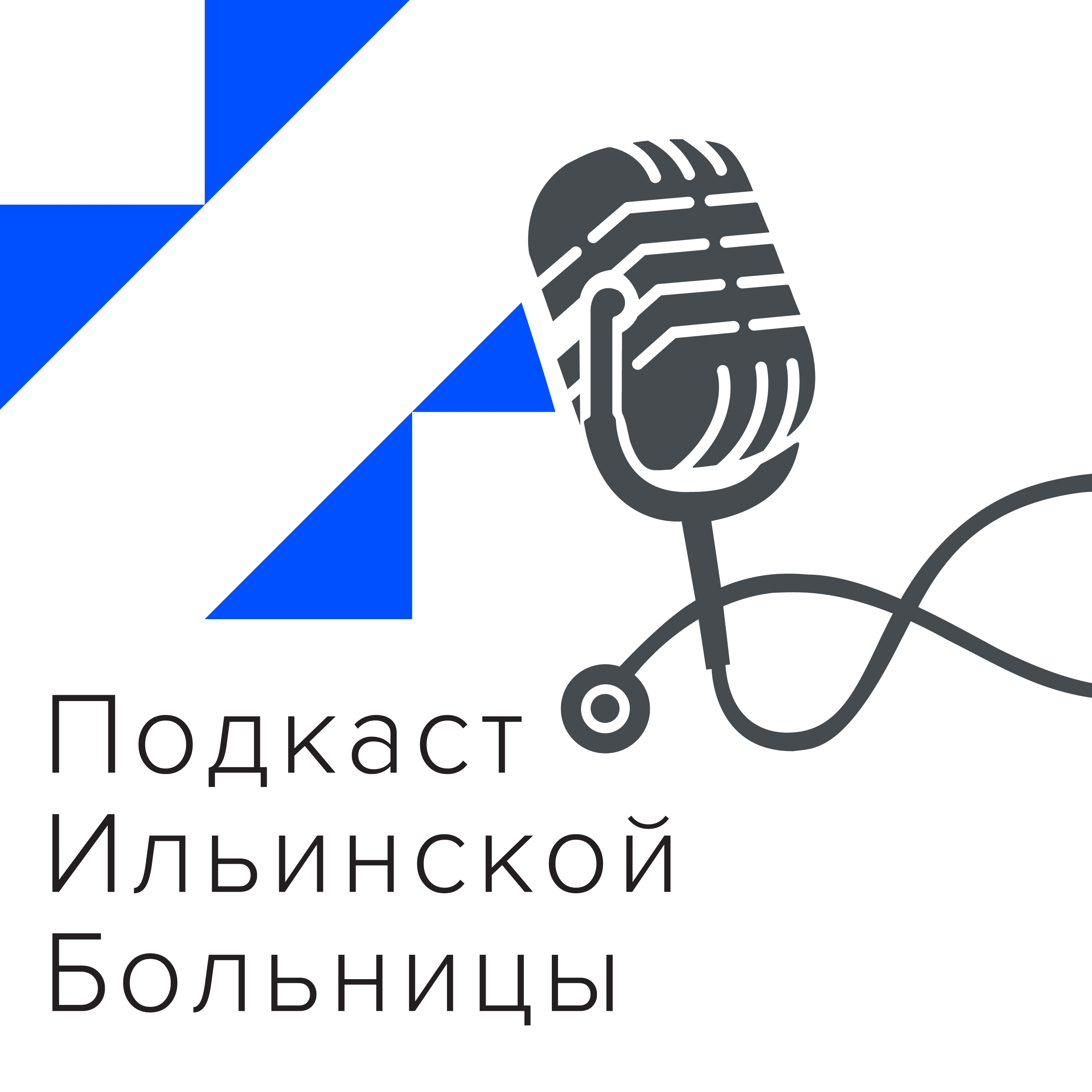
Подкаст Ильинской больницы
Подкасты / #5 Сезон главного врача
Выпуск 5.1 | Сколько стоит безопасная медицина
В гостях у главного врача Ильинской больницы Алексея Викторовича Живова Генеральный директор Ильинской больницы Артем Борисович Гапеев. В этом выпуске:
- Почему медицина может быть опасна?
- Статистика и примеры врачебных ошибок.
- Как выстроить систему безопасности в больнице?
- Система анализа инцидентов.
- Чек-листы как инструмент безопасности.
- Пример реального инцидента с идентификацией пациента.
- Инвестиции в безопасность: люди и ресурсы.
- Важность многопрофильности больницы для обеспечения безопасности.
- Культура невиновности vs. персональная ответственность.
- Итоги: безопасность, пациент, репутация.
Главный врач, уролог, к.м.н. А.В.Живов: https://ihosp.ru/3rCMA2Ti | Генеральный директор А.Б.Гапеев: https://ihosp.ru/XBcam7Ca | Все выпуски подкаста: https://ihosp.ru/Z5hActoS
Аудиоверсия
Видеоверсия
Тема этого выпуска — безопасность пациента в стенах медицинского учреждения. Почему поход в больницу сопряжен с риском, во сколько обходится создание безопасной среды и можно ли доверять врачам свою жизнь — читайте в нашем материале.
Больница — опасное место?
Для пациента клиника — это место, где оказывают помощь. Для специалистов — сложнейший механизм, где на каждом шагу пациента и персонал подстерегают риски. «Мы с вами пришли работать в опасное место», — с такой провокационной фразы Артём Гапеев начинает обучение сотрудников больницы.
Безопасность — это не абстрактное понятие, а фундаментальный элемент качественной медицинской помощи. Чем же конкретно опасна больница? Во-первых, это ошибки в коммуникации. За время госпитализации пациент может взаимодействовать с десятками людей — врачами, медсестрами, администраторами. Если информация между ними передается нечетко, теряется или искажается, это создает прямую угрозу.
Во-вторых, это риск неправильной идентификации пациента. В потоке больных можно перепутать пациентов, что может привести к фатальным последствиям — операции не тому человеку или на неправильной стороне тела.
В-третьих, это опасность, связанная с применением лекарств. «Пациентов убивают в больницах, нарушая правила применения лекарственных средств», — утверждает А.Б.Гапеев. Правило "пяти пальцев": тот пациент, то лекарство, та доза, то время и тот путь введения.
Отдельные угрозы — это падения ослабленных пациентов, распространение больничных инфекций и даже технические риски, ведь современная больница — это перегруженный инженерными системами объект.
Невидимая статистика ошибок
В странах, где ведется подобная статистика, цифры шокируют. Например, в США от медицинских ошибок, связанных с лекарствами, гибнет столько же людей, сколько в автокатастрофах — от 40 до 60 тысяч человек в год. Примерно столько же пациентов погибает или получает увечья из-за ошибок в хирургии. Реальные случаи включают удаление здоровой почки вместо больной или операцию на здоровой конечности, что обрекает человека на пожизненный диализ или инвалидность.
Проблема усугубляется разрывом в преемственности между стационаром и поликлиникой. Блестяще проведенная операция может быть сведена на нет отсутствием грамотного наблюдения у участкового врача, который не знаком с тонкостями выполненного вмешательства. В России такой статистики нет вовсе, и, как отмечает Алексей Живов, если бы ее начали собирать, общество бы ужаснулось.
Как построить безопасный госпиталь?
Ответ на этот вопрос не является секретом. Существуют международные системы и стандарты, такие как JCI, которые описывают практические процедуры и регламенты для всех сфер безопасности. Однако, как подчеркивает Артём Гапеев, написать стандарт — это лишь 10% успеха. Остальные 90% — это внедрение, которое упирается в человеческий фактор.
Главная проблема не в том, что сотрудники не знают, как сделать правильно, а в том, что они не всегда понимают, зачем это делать. Процедуры воспринимаются как формальность, ненужная бюрократия.
Ключевым инструментом в Ильинской больнице стала система анализа инцидентов. Любой сотрудник, заметивший нежелательное событие или даже потенциально опасную ситуацию, может сообщить об этом через внутреннюю информационную систему. Заявка автоматически рассылается группе контроля качества. Если инцидент набирает высокий балл, назначается расследование: изучаются записи камер, документация, проводятся интервью с участниками. Затем случай коллективно разбирается, чтобы найти причину проблемы и предотвратить её повторение.
Парадокс в том, что в такой системе участвует лишь около 10% коллектива. Мешают культурные барьеры: страх прослыть «стукачом», нежелание портить отношения в коллективе или уверенность руководителей, что они могут решить проблему «внутри отдела». «Это заблуждение. Никакого вопроса вы не решили. Это означает, что через некоторое время это повторится», — комментирует А.Б.Гапеев.
Чек-листы и браслеты: простая магия спасения
Один из самых известных инструментов безопасности, пришедших в медицину из авиации, — чек-листы. Перед каждой операцией медсестра-координатор зачитывает список вопросов: правильно ли идентифицирован пациент, та ли операция планируется, на той ли стороне, все ли члены бригады на месте. Изначально хирурги встречали это в штыки, считая унизительным в игровой форме подтверждать очевидные вещи.
Однако практика показала обратное. Алексей Живов приводит пример, когда в больнице одновременно лежали два пациента с идентичными ФИО и датой рождения. Только строгий чек-лист предотвратил трагедию. Артём Гапеев дополняет историей из практики, когда пациентка прошла весь путь от приемного покоя до выписки с браслетом другой пациентки. Ошибку вскрыл лишь лаборант КТ. Этот случай доказал, что недостаточно просто иметь браслет — персонал должен быть приучен его читать и проверять.
Инвестиции в безопасность: люди, технологии и одноразовые материалы
Безопасность — это дорого. И эти инвестиции прямым образом ложатся в стоимость медицинской помощи. Но что именно в нее входит?
Люди. Безопасность невозможна без адекватной укомплектованности штата. Если в стационаре на одну медсестру приходится 15-20 пациентов, а в реанимации — больше двух, речь о безопасности идти не может. Медсестра физически не успевает выполнить все назначения, проконтролировать состояние и не ошибиться. То же самое с врачами: хирург, делающий пять операций в день, на пятой почти гарантированно допустит ошибку.
Технологии и материалы. В Ильинской больнице сознательно идут на удорожание, отказываясь от многоразового там, где это возможно. Ламинарные потоки в каждой операционной, одноразовое белье и расходные материалы — все это снижает риск инфекций. «Инвестируем в безопасное оборудование, безопасные инженерные системы, помещения. Но самое главное — мы инвестируем в людей», — резюмирует А.Б.Гапеев.
Культура невиновности vs. ответственность
В международной практике популярна концепция «no-blame culture» — культуры невиновности. Ее суть в том, что в ошибке виноват не конкретный человек, а система, которая позволила ему ошибиться (недообучила, перегрузила работой). Сваливание вины на сотрудника приводит лишь к сокрытию инцидентов.
Однако спикеры предостерегают от крайностей. Если полностью снять с человека ответственность, это может привести к безответственности. Нужен разумный баланс. «Виновен не человек, а виновата система. Но что такое система? Система — это те же самые люди», — рассуждает Алексей Живов. Вопрос не в поиске виноватого для наказания, а в определении зон ответственности для построения более надежных процессов.
Итог: безопасность как основа репутации
Так сколько же стоит безопасная медицина? Она стоит дорого, но эти инвестиции абсолютно оправданы. Безопасность — это фундамент качества, а качество, в свою очередь, трансформируется в позитивный опыт пациента. Даже если медицинская проблема не может быть решена полностью, сам опыт лечения в безопасной, предсказуемой и комфортной среде формирует репутацию клиники.
«Ничего в медицине, кроме репутации, монетизировать нельзя», — заключает А.Б.Гапеев. В конечном счете, именно безопасность, которую пациент может даже не осознавать явно, становится тем главным активом, за который люди готовы платить — деньгами или доверием.
Другие выпуски этого сезона
Спрашивайте!
-
Информация
-
Лицензии
-
Обратная связь с пациентами
-
Пациентам
- Экстренная помощь
- Прибытие в Ильинскую больницу на машине Скорой медицинской помощи
- Первичному пациенту
- Запись на лучевую диагностику
- Стоимость и оплата услуг
- Обслуживание по полисам ДМС и иностранным страховым полисам
- Дистанционные услуги
- Амбулаторный прием
- Стационарное лечение
- Служба семейных врачей
- Личный кабинет
- Правила для пациентов и посетителей
- Книги врачей Ильинской Больницы, медицинский журнал
- Социальные сети и полезные ссылки
Ильинская больница. Все права защищены. 2025 год.
143421, Московская обл., городской округ Красногорск, д. Глухово, ул. Рублёвское предместье, д. 2, корп. 2